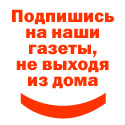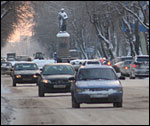Танюшка
Слова эти кружились у нее в голове, как завещание. Вере Ивановне было страшно – а вдруг не смогу полюбить чужого ребенка? Мать не знала еще и того, что Вера оказалась бесплодной, и это обстоятельство теперь все чаще толкало ее к детдому. И она стала ходить туда – сначала смотрела, как они гуляют, потом попросилась у директора просто приходить, и сменила работу, перешла в детский дом. Присматривалась, приглядывалась, и все дети ей нравились, кто больше, кто меньше. Но она их только жалела, осиротелых, покинутых, а полюбить – нет, не могла. А однажды в детский дом поступила девочка с огромными глазищами, улыбающаяся всем подряд. Оказалось, мать ее оставила еще в роддоме. У ребенка что-то с нервной системой, мама во время беременности и пила, и курила, и даже имени отца не знает. Вера Ивановна просто «заболела» девчушкой, и уже не только жалость появилась в ней, но и любовь, любовь! Почти все в детском доме уговаривали Веру Ивановну: «Не бери ее, намучаешься, она недоношенная, больная. Возьми здоровенького, раз уж приспичило». Но решение уже созрело, и Вера просто дышать уже не могла без Танюшки. Жить они уехали в другой город, поэтому вопросов лишних не было. Отчитываться тоже особо было не перед кем – так началась у них семейная жизнь. Таня оказалась ребенком болезненным, отставала в развитии, были бесконечные походы по врачам, больничные. Были минуты отчаяния, и слова матери звучали в ушах «намучаешься - налюбишься». А так любить, как Вера любила Танюшку, даже не каждая родная мать может, потому что, помимо своей ласки и заботы, она отдала ей свое сердце – много занималась, хотя психиатр однажды сказал: «Вряд ли что-то изменится к лучшему». Она не верила в такие прогнозы и снова, и снова занималась с девочкой. …Вера Ивановна тяжело вздохнула, рассказывая, и сказала: «Добилась я своего – нормальным ребенком стала Таня, в школу общую пошла, училась хоть и не отлично, но хорошо. Ласковая, добрая, открытая такая девочка росла. А в 15 лет в нее словно бес вселился: загуляла, да не с парнями, а с мужиками, курить начала, пить, домой не приходила ночевать. Я уж глаза все прогляжу: светает, а ее нет. Потом пьяный мужик ее на себе притащит, положит у дверей… Школу-восьмилетку кое-как закончила, надо бы определяться с дальнейшим обучением, а у меня душа болит – куда ее? Понимаю, что, видать, все дело в наследственности, но тогда как же воспитание? Сколько раз подмывало сказать в сердцах правду, но останавливала себя, видно, Господь Бог не давал. Да и то: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Уговаривала, вразумляла, сердилась, но все равно любила ее, неразумную. А ей хоть бы что – днем слушает, повесив голову, а ночью опять в загуле. Так больше года продолжалось, у меня нервы стали сдавать, и я попала в больницу. Сначала переживала и за Таню, и за квартиру, а потом так все равно стало, видимо, это пришла депрессия. А Танюшка даже в больницу ко мне не приходила. И вот однажды приснился мне тяжелый кошмарный сон. Будто Таня тонет, а я никак ее не могу из воды вытащить. И тут мать моя стала мне помогать, кричит: «Да за волосья, за волосья тащи!» Проснулась вся мокрая, будто впрямь в воде была. Вот тут и началось мое выздоровление: скорей, скорей надо девку спасать.С Божьей помощью
Это только в сказках бывает – чудо свершается. Танька моя еще два года куролесила, нервы мои мотала, я уж опять руки опускать стала, и опять мать приснилась. Только из всего сна и запомнила: «Перебесится». К кому, к чему относились слова, не знаю, но поняла – к Тане. И однажды утром вдруг я засобиралась в церковь, а ведь никогда не ходила, даже не крещеная была. Да и время не такое было, как нынче. А Таня мне спросонья: «Ты куда, мать?» Я ей и сказала, а она как расхохочется: «Что, мои грехи замаливать? Ну, давай, давай!». Я ушла, иду к храму, подойти не знаю как, уже себя ругаю: «Зачем тебе это, поверни обратно», - а ноги сами идут, идут, идут. Пришла туда, стою, а слезы у меня как хлынут ручьем – так мне горько, больно, обидно, так пожаловаться хоть кому-то охота, что просто не могу слова в себе держать. Плакала навзрыд, рыдала просто. Святой водой набрызгали – успокоилась. Какая-то женщина все со мной возилась – она матушкой оказалась. Привела меня в каморочку, чаем напоила, и я всю свою горькую жизнь, как прямо на исповеди, и выложила. И сказала она мне вот что: «Это дьявол вас искушает, мол, зачем ребенка взяла, откажись, скажи ей все. И если вы дьявола послушаетесь, правду истинную девочке скажете, возненавидит она вас. Вам нельзя этого делать, и Господь вас не зря сюда привел. Наладится все с Божьей помощью». И я поверила, успокоилась, Таню ругать перестала. Да и что ругать, почти совершеннолетняя. Вера Ивановна умолкает, и мне неудобно ее торопить вопросом: «А дальше-то что?». Но хочется, как в кино, узнать, какой конец. А она молчит, то ли вспоминая, то ли переживая нелегкую свою жизнь. Потом вздыхает: «Да, видно, то, что я ругать перестала, а стала еще больше жалеть, чем ту, маленькую, болезненную, на нее больше подействовало. Нет, сказать, что она образумилась, перебесилась – нельзя, но загуливать она стала реже, со мной воевать и спорить перестала, а то ведь, бывало, стыдно сказать, и обзовет матерными словами, и даже руку поднимет. Потом сошлась с каким-то мужичком, тоже не больно положительным, но одно хорошо – с одним стала жить, не таскали ее, как шалаву какую. Поехали куда-то счастья да заработков искать. Да, видать, счастье да деньги на дороге не валяются – их надо заработать. Что заслужил, то и получил. Вернулась, горюшко мое, через год, без сожителя своего – под машину угодил, а она с животом. Присмирела, все порывалась аборт сделать, но, во-первых, уже и срок был не тот, а во-вторых, я тут категорически настроилась: дите не виновато, грех это великий. Конечно, переживала: какой ребеночек родится, от наследственности-то не убежишь, получается. Но, слава Богу, дите в срок родилось, здоровенький мальчишечка. Татьяна матерью хорошей оказалась, и грудью кормила, и ночами на руках таскала, если плакал. Но хватило ее ненадолго – два года было Костику, она, можно сказать, сбежала из дому-то. С дороги письмо написала, мол, не сердись, мама, я нашла свою судьбу, как все наладится, напишу и сына заберу… Через 5 лет только второе письмо пришло и та же песня – прости, заберу, но попозже. Костенька подрос, про мать спрашивает, а я ему плохого слова про нее не сказала. Мол, приедет мама, а пока не может. Однажды приходит с улицы весь красный, в слезах: «Я знаю, моя мать - кукушка и пьянь рваная!». Шила-то в мешке не утаишь. Успокоила, что неправда все это, но внучек мой с того дня замкнулся, стал худеть, на голову жаловаться, я с ним по врачам год ходила, в больницах вылежала… Не спасли Костеньку, 10 годочков на свете и прожил. Похоронила, и свет белый стал мне не мил: мать родная даже не знает, что сыночка не стало. Приехала спустя два года, да меня еще и обвинять начала: недоглядела, недосмотрела, угробила. Эх! Усадила я ее на диване и сказала: «Ты теперь взрослый человек, сядь и слушай». И все-все ей рассказала. С каменным лицом слушала, ни слезинки не выронила, только в конце разжала губы: «Ну, зачем ты меня забрала-то!?» И ушла. Вернулась через неделю, с букетом цветов полевых, на колени передо мной встала, и цветы передо мной положила. «Прости, меня, мама. И спасибо тебе за все!». …Вера Ивановна прервалась на телефонный звонок «Да! Таня, не торопись, конечно, посещение-то здесь до 7 вечера». Обернулась ко мне: «Извините, дочка сейчас придет», - и, прихрамывая, пошла по больничному коридору. Потом остановилась и сказала то, о чем я так и не решилась ее спросить: «И все-таки ни разу я не пожалела, что взяла Танюшку из детдома. Она родная мне, все равно родная. А о родных разве думают: «Зачем ты мне нужен?». Костеньку жалко, но у него оказалось наследственное по линии отца заболевание, так что Бог дал – Бог и взял. На все Его воля. Я молюсь за него каждый день, за его душу».Вернуться к содержанию номера :: Вернуться на главную страницу сайта